Из России — в Израиль: фотограф как рассказчик. Детали: Hовости Израиля
«Я чувствую себя двояко», — говорит известный российский фотограф Сергей Максимишин, дважды лауреат World Рress Photo и многих других конкурсов. Месяц назад Максимишин и его жена репатриировались в Израиль и поселились в Иерусалиме.
— С одной стороны, я поражен приемом, который нам тут оказан — не мне лично, а всем тем, кто приехал. Я, признаться, такого не ожидал. А с другой, я совершенно не могу отрешиться от того, что происходит на родине. Я думал, что пересеку границу, и все уйдет. Но ничего не уходит. Я все так же сижу в новостях.
Их отъезд был поспешным.
— Год назад, когда была шумиха с Навальным, я понял, что чем-то таким все и кончится. И мы подали документы на репатриацию. Я думал, что мы организованно уедем летом, когда у меня не будет занятий по фотографии. Но все началось резко, я не сдержался и высказался в «Фейсбуке», и раз, и два и три. Сначала мне стали писать гадости в комментариях, потом я обнаружил себя в списке «врагов народа», и мы решили уезжать быстро. 24 марта была консульская проверка, и 27-го мы улетели, не очень представляя, что нас ждет.
24 марта была консульская проверка, и 27-го мы улетели, не очень представляя, что нас ждет.
Мы понимали, что под забором нас не оставят. Но что нам бесплатно дадут гостиницу, снабдят деньгами, будут кормить-поить и всячески опекать, что чиновники будут сами приходить к нам, чтобы оформить всяческие бумаги? А во-вторых, множество почти незнакомых, а то и совсем незнакомых людей помогали: предлагали квартиры, проводили за нас переговоры, привезли какую-то мебель, посуду. Для меня это… — он делает паузу, — …честно говоря, я очень тронут. Я просто должен это сказать.
Тель-Авив. Фото: Сергей Максимишин
Эвакуация была столь поспешной, что они были вынуждены оставить своих собак «у хороших людей» — авиакомпания, на которую у них были билеты, не допускала на борт домашних животных.
— Я чувствую себя предателем, — улыбается Максимишин. — Как только получим паспорта, мы отправимся их забирать. И будем жить потихонечку. Если найдем тут работу, — как фотографу мне, надеюсь, на год работы хватит, моя жена — репетитор по математике, пользовавшийся в Петербурге большим спросом, — то останемся. В Питере у меня школа фотографии, и тот годичный курс, который у меня есть там, я хотел бы перевести сюда. Пока что люди говорят, что это интересно. Посмотрим.
В Питере у меня школа фотографии, и тот годичный курс, который у меня есть там, я хотел бы перевести сюда. Пока что люди говорят, что это интересно. Посмотрим.
А пока что — гуляю по Иерусалиму и фотографирую — это очень фотогеничный город, и, я думаю, лучше всего у меня получается снимать в местах, где оказался во второй раз. В первый раз ты ловишь пену: снимаешь экзотику. А во второй пытаешься пойти глубже. Думаю, у меня что-нибудь получится.
Иерусалим. Фото: Сергей Максимишин
Сергей Максимишин известен не только как фотограф, но и учитель фотографии. На основе личного опыта добавлю — учитель прирожденный, который легко и ненавязчиво ведет за собой студентов, так что со временем, иногда годы спустя, полученные на курсе идеи кажутся им своими собственными.
На прошлой неделе Сергей Максимишин провел в Тель-Авиве двухдневный мастер-класс на русском языке: четыре двухчасовых обзорных лекции по теме, которая является основой его годичного курса: «фотограф как рассказчик». Рассказы о фотографии и случаи из фотографической жизни Максимишина перемежались с работами его студентов и, конечно, его собственными.
Рассказы о фотографии и случаи из фотографической жизни Максимишина перемежались с работами его студентов и, конечно, его собственными.
Речь идет о фоторассказах — тщательно выстроенных фотосериях. Как говорит сам фотограф, «журналистика — это когда одни люди рассказывают другим о том, как живут третьи». Такими и были эти фотоистории — работы студентов подкупали своей искренностью, отсутствием профессионального лоска (что никак не отменяет умения владеть фотоаппаратом как инструментом самовыражения), и желанием поделиться.
Иерусалим. Фото: Сергей Максимишин
Один из афоризмов, которые как бы невзначай рассыпаны по его мастер-классам таков: «Хорошая фотография подобна музыке: она вливается прямо в вены и ее невозможно рассказать по телефону». Фотографии Сергея Максимишина одним ударом передают зрителю некое чувство, или смесь чувств, или то, что называется «нерассказанной историей» — что зритель не может выразить словами, но сердцем знает, о чем это. «Что такое искусство, как не передача чувств на расстоянии?» — вот еще одна из фраз, оброненных на уроке и запоминающихся надолго.
Иерусалим. Фото: Сергей Максимишин
— Много лет назад вы одной короткой фразой перевернули мои представления о фотографии, заметив: «Они грамотные, но очень литературные». То есть — от ума. А как… нельзя сказать «как должно снимать», потому что фотография никому ничего не должна — но как быть, когда аппарат жжет тебе руки?
— Весь 20-й век в искусстве — это поиск невербальных коммуникаций, способы достучаться до души не через голову. Как музыка — ей не нужен язык слов. Музыка и танец — древнейшие из искусств, даже животные поют и танцуют. Потому я и думаю, что чем больше в фотографии музыки и чем меньше литературы, тем она лучше.
— Вот еще ваша фраза с мастеркласса: «Вы, вероятно, думаете, что сделать фотографию — это снять то, что видишь. Нет, это — снять то, что невидимо».
— Знаете, я не очень хорошо вижу. На работе, на лекции мне нужны очки. А снимать в очках у меня не получается. Потому что у меня реальнось распадается на подробности, я перестаю видеть метафизику. Перестаю видеть пласты цвета, пласты форм. Точно так же по негативной фотопленке легче отобрать фотографии, чем по цифровым изображениям. Пленка маленькая и ты не видишь деталей, а только макроэлементы, и я сразу вижу — это фотография или нет. А при просмотре тысячи цифровых изображений иногда бывает трудно отвлечься от сюжетной составляющей, то есть от литературы.
Перестаю видеть пласты цвета, пласты форм. Точно так же по негативной фотопленке легче отобрать фотографии, чем по цифровым изображениям. Пленка маленькая и ты не видишь деталей, а только макроэлементы, и я сразу вижу — это фотография или нет. А при просмотре тысячи цифровых изображений иногда бывает трудно отвлечься от сюжетной составляющей, то есть от литературы.
…Когда я отправляюсь на съемку, мне очень важно вогнать себя в медитацию. Я иду по улице и ничего не вижу. Я знаю, что нужно сделать, чтобы начать видеть: взять камеру в правую руку. Когда ты готов к съемке, что-то начинает проявляться. Если ничего нет, ты снимаешь это «ничего нет». Звук щелчка камеры — эта такая подманивающая штука. Когда я снимал на пленку, первые две катушки можно было не проявлять, они были разминочные. Лишь после того, как входишь в ситуацию, открывается третий глаз, и ты начинаешь видеть, ты начинаешь снимать. Это очень энергозатратная штука — через несколько часов ты оттуда вываливаешься, и тебя начинает немного подташнивать, ты больше уже не можешь снимать.
В фотографии очень важно уметь быстро перебирать варианты. Это, наверное, нескромно, но у меня сильно развито данное качество. Важно, заметив некую ситуацию, начать перебирать возможные пути развития. Этот человек пойдет сюда, тот туда, а этот встанет здесь. Иногда ты начинаешь собирать фотографию, даже не вербализируя: ты видишь красивый свет, красивую стену и у тебя начинает звенеть: уже знаешь, здесь что-то будет. Такое случалось у меня и со студентами в Индии: пустая стена, а ты говоришь: «Сейчас будет фотография». И появляется корова, тетушки идут с рынка, дети на велосипедах едут в школу, приходит собачка — все это собирается как будто вашей волей. Идеальная фотография звенит у тебя в мозгу. И ты ждешь момента, когда реальная ситуация максимально приблизится к той, что у тебя звенит.
Идеальной фотографии быть не может, но ты чувствуешь, чего ты ждешь и слышишь этот звонок, когда нужно нажать на спуск.
Со снимками Сергея Максимишина можно ознакомиться здесь. Рекомендуется смотреть на экране максимально возможного размера — и уж никак не на экране смартфона.
Рекомендуется смотреть на экране максимально возможного размера — и уж никак не на экране смартфона.
Максим Рейдер, «Детали».
На фото: пресс-конференция Владимира Путина, 2001 год. Фото: Сергей Максимишин
На врезках: новые израильские фотографии Сергея Максимишина
10 любимых фотографий Сергея Максимишина — Bird In Flight
Сергей Максимишин, 50 лет
Учился в Ленинградском политехническом институте на кафедре экспериментальной ядерной физики. С 1985 по 1987 служил в армии (был фотографом военного клуба Группы советских военных специалистов на Кубе). В 1988 году вернулся в институт, совмещал учёбу с работой в лаборатории научно-технической экспертизы Эрмитажа. С 1996-го по 1998-й учился на факультете фотокорреспондентов при санкт-петербургском Доме журналистов. С 1999 по 2003 годы работал в газете «Известия». С 2003 года сотрудничает с немецким агентством «Фокус». Двукратный лауреат World Press Photo, победитель множества российских и международных конкурсов. Публиковался в Time, Newsweek, Paris Match, Stern, Geo и многих других изданиях.
Публиковался в Time, Newsweek, Paris Match, Stern, Geo и многих других изданиях.
Продавец золотых рыбок. Багдад. 2002 год.
Мы прилетели в Багдад в сентябре 2002-го, за полгода до войны. В то время в Ираке позволяли работать только русским журналистам. Просто так ходить по городу и фотографировать было запрещено — только в сопровождении «гида». Русскоязычных гидов было немного, и почти все они работали с телевизионщиками. Нам с Юрием Козыревым выдали одного Хасана на двоих. На попытки возмутиться предложили ещё гида с португальским языком. Это было проблемой, поскольку официально мы работали для «Известий» и «Огонька», но на самом деле для Time и Newsweek — их прямых конкурентов. Мы боялись, что когда-нибудь в наших журналах выйдут похожие картинки, и будет позор на весь мир. Наняли Мундыра — тот знал русский, но не был аккредитован при местном «министерстве правды». Поступали так: приходили в какое-нибудь место и работали парами: кто-то с Хасаном, а кто-то с Мундыром, стараясь не отходить далеко. Как только у того, кто работал с Мундыром, возникали проблемы (а они возникали практически сразу, почти в каждом месте был «смотрящий»), Мундыр бежал за Хасаном, и Хасан (мы ему хорошо платили) разруливал ситуацию.
Как только у того, кто работал с Мундыром, возникали проблемы (а они возникали практически сразу, почти в каждом месте был «смотрящий»), Мундыр бежал за Хасаном, и Хасан (мы ему хорошо платили) разруливал ситуацию.
Нашей задачей было снимать всё, что можно. Все понимали, что дело идёт к войне, и Ирак был всем интересен. В субботу пошли на птичий рынок. Договорились так: чтобы не мешать друг другу и не снимать одинаковые картинки, Юра с Хасаном отправились фотографировать птичек, а я — рыбок. Обычно я просматриваю снятое на цифру в процессе съёмки, но этот кадр я заметил уже в гостинице. «Юра, — говорю, — смотри какая картинка!». Козырев глянул скептически и сказал: «Птички, рыбки, нас что, за этим сюда послали? Тоже мне фотохудожники!».
Мы тогда работали с камерой Canon D30, это, на мой взгляд, худшее изделие фирмы за всё время её существования. Через три-пять кадров камера говорила «Busy» и отказывалась реагировать на любые команды. Угадать, сколько времени она пробудет в этом состоянии, было невозможно. Размер цифрового файла — 2 160 × 1 440 пикселей (3,1 мегабайта). Сейчас камера самого дешёвого мобильного телефона выдаёт в разы больший файл. Но это не мешает картинке публиковаться до сих пор и, более того, продаваться в галереях. Иногда бывает, что размер не имеет значения.
Размер цифрового файла — 2 160 × 1 440 пикселей (3,1 мегабайта). Сейчас камера самого дешёвого мобильного телефона выдаёт в разы больший файл. Но это не мешает картинке публиковаться до сих пор и, более того, продаваться в галереях. Иногда бывает, что размер не имеет значения.
{«img»: «/wp-content/uploads/2015/06/Maksimishin_01.jpg», «alt»: «Сергей Максимишин», «text»: «»}
Банковские служащие отмечают день рождения коллеги в ночном клубе «Хали-гали». Санкт-Петербург. 2002 год.
«Огонёк» решил взять интервью у Романа Трахтенберга, шоумена, автора и ведущего развлекательной программы в питерском клубе «Хали-гали» — «клубе грязных эстетов», чрезвычайно популярном в Петербурге в начале 2000-х. Раскованная атмосфера, много недорогой водки, большие порции сытной еды, грубые (иногда ну очень смешные) шутки. Официантки — топлесс, спляшут голыми на столе, если попросишь, а если очень попросишь, и не только спляшут. В общем, творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья по-советски.
Отправились мы в клуб с приехавшим из Москвы пишущим журналистом. Ещё до начала программы взяли интервью, остались посмотреть шоу. Трезвым на это дело смотреть невозможно, и через какое-то время мы оказались на одной волне с собравшимися. За соседним столиком веселилась компания банковских служащих, отмечавших день рождения коллеги. Соседи опережали нас, по моим понятиям, граммов на 150.
Эта картинка оказалась самой невинной из снятого. Стриптизёрша работала с огоньком. «Огонёк» фотографию не поставил.
Танец на столе — подарок юбиляру. Поощряемый своими удалыми нетрезвыми героями, я снимал почти вслепую — было очень темно. Вспышкой (тогда ещё у меня была вспышка) лупил в потолок за себя. Потолок был обтянут чёрным бархатом, под потолком, помню, была ещё какая-то решётка из реек, на которой крепились тусклые лампочки. Плёнка — не цифра, посмотреть, что получается — никак, уверенности в том, что что-то вообще получится, не было никакой, да и процесс, надо сказать, в тот момент увлекал больше, чем результат.
Утром в лаборатории выяснилось, что всё получилось. Эта картинка оказалась самой невинной из снятого. Стриптизёрша работала с огоньком. «Огонёк» фотографию не поставил.
{«img»: «/wp-content/uploads/2015/06/Maksimishin_02.jpg», «alt»: «Сергей Максимишин», «text»: «»}
Александро-Свирский монастырь. Ленинградская область. 2002 год.
В Александро-Свирский монастырь я приехал по заданию «Известий». Уже не помню точно, что же именно я должен был снимать. Дело было в понедельник страстной недели. Полным ходом шёл ремонт собора, недавно переданного церкви (в советское время в помещениях монастыря располагалась психиатрическая больница, а до того — тюрьма, и над дверями келий ещё висели латунные таблички с номерами камер). Монахи торопились — по плану пасхальная служба должна была пройти уже в отреставрированном соборе.
Передав с пишущей журналисткой плёнки в редакцию, я решил остаться в монастыре до Пасхи. К Чистому четвергу со строительными работами закончили, и, как и положено, началась уборка. Монахи стали переносить иконы из братского корпуса в собор. Я снимал с нижней точки, чтобы сделать хмурое фактурное небо фоном для графичных фигур монахов.
Монахи стали переносить иконы из братского корпуса в собор. Я снимал с нижней точки, чтобы сделать хмурое фактурное небо фоном для графичных фигур монахов.
В пасхальную ночь вместе с монахами и прихожанами был на всенощной. Под утро вдруг распахнулись двери храма, полыхнули свечи под порывом холодного ветра, заколыхались тени на стенах и ликах. Вошли люди, одетые в длинные чёрные кожаные пальто и стали вдоль стен. Как в кино.
После службы пошли разговляться. Духовное начальство и почётные гости (меня тоже пригласили) пировали отдельно от братии и послушников. Зайдя в трапезную, среди приглашённых я увидел и людей, удививших меня в храме. Их пальто уже висели на вешалке, серьёзные мужчины в чёрной униформе усаживались за стол. На рукавах были видны повязки с похожей на свастику эмблемой Русского национального единства. Я ушёл праздновать Воскресение Христово к людям попроще.
{«img»: «/wp-content/uploads/2015/06/Maksimishin_03.jpg», «alt»: «Сергей Максимишин», «text»: «»}
Теологический колледж.
 Махачкала. 2008 год.
Махачкала. 2008 год.В середине 2000-х в Дагестане вспыхнула эпидемия похищения невест. Усилившееся имущественное расслоение, выползшие вдруг из средневековья межнациональные счёты и обиды привели к тому, что для множества молодых мужчин найти себе пару законным способом стало практически невозможно. Дело зашло так далеко, что глава духовного управления мусульман Дагестана выступил по телевидению с обращением, призывавшим джигитов добывать невест исключительно мирным путём. «Русский репортёр» решил об этом писать.
Сфотографировать похищение, не выходя за рамки, очерченные Уголовным кодексом, невозможно. Снимать кино «Кавказская пленница 2.0» — не наш метод. Решили отойти от буквального иллюстрирования текста и сделать небольшое эссе о судьбе дагестанской женщины вообще.
Сначала я отправился в селение Муги, снимал школу, половина девочек выпускного класса которой уже были похищены. В Махачкале снимал роддом. На здании не было живого места — всё исписано сообщениями: «Гульжанат родила Мураду Рабазанчика!!!». «У Али и Хавы родился Долгатик!!!». По слухам, после публикации фотографии расписного роддома в «Русском репортёре» здание побелили. Иногда и от фотографа бывает польза.
«У Али и Хавы родился Долгатик!!!». По слухам, после публикации фотографии расписного роддома в «Русском репортёре» здание побелили. Иногда и от фотографа бывает польза.
Густо усаженная пластмассовыми пальмами махачкалинская набережная — место романтических прогулок, поснимал там немного. Зашёл на репетицию шоу-балета. Выступления ансамбля в ночных клубах (девочки танцуют в купальниках) — самое эротичное из зрелищ, допущенных к легальному просмотру в Дагестане. Многим девушкам, принимающим участие в репетициях, родители запрещают выступать перед публикой.
Натерпелся страху, снимая дагестанскую свадьбу. За нежно-розовым лимузином с молодожёнами прямо по разделительной полосе мчится кортеж из 20 побитых жизнью «жигулей». Грохочет лезгинка. Из окон автомобилей, высунувшись по пояс, кричат и размахивают саблями родственники молодожёнов. Те, у кого нет сабли, машут ножнами. Встречные машины шарахаются в стороны.
На боковых улицах появления кортежа ожидают абреки на лохматых «копейках». Их задача — выскочив из укрытия, перегородить кортежу путь. В случае их успеха от джигитов принято откупаться. Я снимаю через открытую заднюю дверь, лёжа на животе в одной из «восьмёрок» кортежа. Спрашиваю, как часто жених и невеста добираются до загса живыми. Говорят, что почти всегда. Свадьба скромная — 550 приглашённых. На входе в банкетный зал сидит родственник невесты и в учётную книгу вносит фамилию прибывшего гостя и сумму подарка в рублях или валюте. Молодым, похоже, будет что посчитать долгими зимними вечерами.
Их задача — выскочив из укрытия, перегородить кортежу путь. В случае их успеха от джигитов принято откупаться. Я снимаю через открытую заднюю дверь, лёжа на животе в одной из «восьмёрок» кортежа. Спрашиваю, как часто жених и невеста добираются до загса живыми. Говорят, что почти всегда. Свадьба скромная — 550 приглашённых. На входе в банкетный зал сидит родственник невесты и в учётную книгу вносит фамилию прибывшего гостя и сумму подарка в рублях или валюте. Молодым, похоже, будет что посчитать долгими зимними вечерами.
Сходил на филфак местного университета — традиционное место добычи эмансипированных невест. Решил поискать источник, откуда берутся невесты, исповедующие традиционные ценности. Добрые люди посоветовали сходить в теологический колледж. Если быть точным, в Гуманитарно-педагогический колледж при Институте теологии и международных отношений имени Маммадибира ар-Рочи. Пришлось просидеть всю лекцию по исламскому праву, дожидаясь момента, когда девушки перестанут обращать на меня внимание.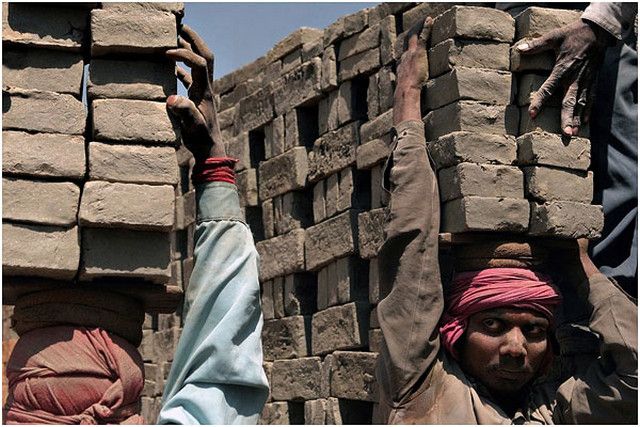 Зато я теперь знаю, что если у вас меньше пяти верблюдов, закят (налог на имущество в пользу бедных) вы по бедности не платите, но если у вас их, верблюдов, от пяти до девяти, с вас одна овца в год.
Зато я теперь знаю, что если у вас меньше пяти верблюдов, закят (налог на имущество в пользу бедных) вы по бедности не платите, но если у вас их, верблюдов, от пяти до девяти, с вас одна овца в год.
{«img»: «/wp-content/uploads/2015/06/Maksimishin_04.jpg», «alt»: «Сергей Максимишин», «text»: «»}
Вриндаван. Индия. 2013.
Вриндаван — один из важнейших религиозных центров, это город, где родился Кришна. Индусы недолюбливают жителей Вриндавана, считая их высокомерными зазнайками. По преданию, люди, родившиеся в этом городе, следующую жизнь проведут в раю (для индусов рай — не счастливый конец фильма, а лишь санаторий, краткосрочный отпуск, предоставляемый в награду за добрые дела). Ещё во Вриндаване самые злые и подлые обезьяны. Одна из них прыгнула сверху на плечи моему спутнику и вырвала из рук пакетик со сладостями. Потом нам объяснили, что во Вриндаване обезьяны — особенные: в них вселяются души брахманов, злоупотребивших некогда доверием учеников.
Видимо, пять лет, проведённых в Эрмитаже, не прошли даром, и я подсознательно реагирую на классические композиционные схемы. Боюсь, мне уже себя не переделать.
Боюсь, мне уже себя не переделать.
Вриндаван — невероятно фотогеничное место. Этот сюжет сам меня нашёл — я просто шёл по улице, глядя по сторонам, и успел снять три кадра, прежде чем люди, обратив на меня внимание, стали улыбаться мне в камеру.
Иногда меня упрекают в чрезмерной живописности моих фотографий. Я даже какое-то время комплексовал по этому поводу, ведь фотография — не живопись для бедных, у неё своя эстетика, а у живописи — своя. Но, видимо, пять лет, проведённых в Эрмитаже, не прошли даром, и я подсознательно реагирую на классические композиционные схемы. Боюсь, мне уже себя не переделать.
{«img»: «/wp-content/uploads/2015/06/Maksimishin_05.jpg», «alt»: «Сергей Максимишин», «text»: «»}
Паром через Иртыш. Тобольск. Июнь 2005
Мой приятель, увидев эту фотографию сказал: «Улыбка Саурона». Ничего демонического в парне нет — его зовут Саша, он работал водителем в комитете по культуре мэрии Тобольска. Сашу и его «уазик-буханку» мэрия отправила мне на подмогу, когда мы делали материал о Тобольске для журнала GEO. Картинку я снял, когда мы с журналистом Александром Можаевым вечером переправлялись на пароме через Иртыш. Мы вышли погулять по парому, а Саша остался в кабине, и сложно было не заметить этот треугольник — зубы, церковь и крест. Паром двигался быстро, и церковь стремительно исчезала, а плёнки в камере не было. Вообще говоря, её почти совсем не было, я израсходовал весь взятый на день запас. Оставалась лишь (чудом вспомнил!) много месяцев болтавшаяся в кофре катушка восьмисотки — по тем временам (2005 год) штука экзотическая. Пока я заряжал плёнку, церковь совсем съехала к левому краю окна, и я едва успел сделать несколько кадров. И, как всегда бывает, при любом количестве дублей точная карточка всегда одна.
Картинку я снял, когда мы с журналистом Александром Можаевым вечером переправлялись на пароме через Иртыш. Мы вышли погулять по парому, а Саша остался в кабине, и сложно было не заметить этот треугольник — зубы, церковь и крест. Паром двигался быстро, и церковь стремительно исчезала, а плёнки в камере не было. Вообще говоря, её почти совсем не было, я израсходовал весь взятый на день запас. Оставалась лишь (чудом вспомнил!) много месяцев болтавшаяся в кофре катушка восьмисотки — по тем временам (2005 год) штука экзотическая. Пока я заряжал плёнку, церковь совсем съехала к левому краю окна, и я едва успел сделать несколько кадров. И, как всегда бывает, при любом количестве дублей точная карточка всегда одна.
Помимо ослепительной улыбки запомнилась Сашина присказка: «Мясо без водки только собаки едят!».
А один неплохой фотограф написал на моей страничке: «Фотография на обложке [имеется ввиду обложка моей книги «Последняя империя: 20 лет спустя»] удивительно дебильно-постановочно-пропагандистско-совковская по стилистике. Никакого отношения к репортажной фотографии она не имеет».
Никакого отношения к репортажной фотографии она не имеет».
{«img»: «/wp-content/uploads/2015/06/Maksimishin_06.jpg», «alt»: «Сергей Максимишин», «text»: «»}
Окно циркового автобуса. Санкт-Петербург. 2000 год.
Ровно в полдень со стены Петропавловской крепости стреляет пушка. Говорят, адмирал в Адмиралтействе под грохот орудия выпивает рюмку водки. Иногда право сделать выстрел предоставляют важным гостям города. В тот день выстрелить доверили известному цирковому артисту. В благодарность артист привёз с собой других артистов, и вместе они устроили представление прямо во дворе крепости. Пока все снимали выступление (не люблю фотографировать то, что показывают), я бродил вокруг. Увидел клоунов в окне циркового автобуса. Чтобы снять такую картинку, большого ума не нужно.
Это единственная фотография в книге, пропорции которой отличаются от традиционных 2:3. Я не люблю кадрировать, считаю кадрирование творческим поражением, потому что для меня фотография — это такая игра: поймай жизнь в прямоугольник «два к трём». Но уж если приходится, то делаю это в исходных пропорциях. А в этой картинке отступил от этого правила: рама окна просто просится быть рамкой фотографии.
Но уж если приходится, то делаю это в исходных пропорциях. А в этой картинке отступил от этого правила: рама окна просто просится быть рамкой фотографии.
{«img»: «/wp-content/uploads/2015/06/Maksimishin_07.jpg», «alt»: «Сергей Максимишин», «text»: «»}
Полевая кухня. Алхан-Кала. Чечня. 2000
«Известия» разругались с пресс-центром Министерства обороны, и редакция боялась, что если фотографа и аккредитуют, то работать не дадут. Поэтому в Чечню я полетел, аккредитовавшись по дружбе от питерской молодёжной газеты «Смена». Самое трудное в командировке в Чечню было попасть Чечню. Сотни журналистов осаждали расположенный в Моздоке (Северная Осетия) пресс-центр группировки войск, но вертолёт у пресс-центра был только один. Туда брали, как правило, только группы федеральных телеканалов. Остальным приходилось рассчитывать только на удачу.
Нам с Юрием Козыревым посчастливилось столкнуться генералом Шамановым. В ответ на нашу просьбу помочь генерал сказал, что завтра утром из Владикавказа он вылетает в Аргун. Если хотим с ним лететь, нужно быть в пять утра у трапа. Как нам попасть на военный аэродром к пяти утра, мы постеснялись спросить.
Если хотим с ним лететь, нужно быть в пять утра у трапа. Как нам попасть на военный аэродром к пяти утра, мы постеснялись спросить.
От Моздока до Владикавказа можно добраться по двум дорогам. Одна, что напрямую и быстро, идёт через Ингушетию. По ней ездить страшно — там похищают людей. Другая проходит через Кабардино-Балкарию. Путь длинный, но по тем временам относительно безопасный. Нанимаем «копейку» с чеченскими номерами. Собираемся ехать по длинной дороге. На развилке нас останавливают нетрезвые сотрудники Военной автомобильной инспекции. Непонятно зачем, по-моему, просто из пьяного куража, запрещают ехать направо и отправляют через Ингушетию. Говорят, у вас номера чеченские, вам по фигу. Таксист заметно нервничает, выжимает из «копейки» максимум. Говорит, что главное нам проскочить 30-километровый участок, где дорога идёт через лес.
Ровно на этом участке нас останавливают какие-то люди в камуфляже. Не русские, никаких знаков различия, на вопросы не отвечают. Таксиста куда-то уводят, нас запирают в комнате и велят ждать. Время от времени дверь открывается, кто-то смотрит на нас молча и уходит. Сейчас пытаюсь вспомнить интерьер комнаты, лица людей и ловлю себя на мысли, что за давностью лет картинка стёрлась. Помню, скорее, уже свои рассказы о том, что было, а не то, как было. Я был уверен, что нас похитили. В очередной раз открылась дверь. Человек посмотрел на нас пристально и обратился ко мне:
Время от времени дверь открывается, кто-то смотрит на нас молча и уходит. Сейчас пытаюсь вспомнить интерьер комнаты, лица людей и ловлю себя на мысли, что за давностью лет картинка стёрлась. Помню, скорее, уже свои рассказы о том, что было, а не то, как было. Я был уверен, что нас похитили. В очередной раз открылась дверь. Человек посмотрел на нас пристально и обратился ко мне:
— Я тебя мог по телевизору видеть?
— Мог, — говорю, — наверное.
— Выходите!
Посадили в машину. Ещё с час ждали водителя. Тот появился в сопровождении двух военных, бледный как смерть. На вопросы не отвечал. Доехали молча. Кто были задержавшие нас люди, мы так и не поняли.
Устроились в гостинице, но спать не ложились — пили водку в пустом гостиничном ресторане. В 4 утра взяли такси и отправились на аэродром. Ласково попросили примёрзшего часового пропустить нас на лётное поле. Мальчик попросил сигарет. Дали две пачки. «Мужики, а покушать нет?». У нас было только яблоко.
У вертолёта встретили фотографа Максима Мармура. С Максимом был майор, корреспондент «Красной звезды». Поговорили. Уже в Аргуне майор вприпрыжку побежал к генералу и стал что-то говорить, косясь в мою сторону. Шаманов подозвал меня.
С Максимом был майор, корреспондент «Красной звезды». Поговорили. Уже в Аргуне майор вприпрыжку побежал к генералу и стал что-то говорить, косясь в мою сторону. Шаманов подозвал меня.
— Ты для кого снимаешь?
— Для «Смены».
— А почему он говорит, что ты из «Известий»?
Пришлось всё рассказать. Шаманов не дослушал: «Хер с тобой. Снимай пока. Говна наснимаешь — в зиндан посажу!».
На броне с бойцами отправились на позиции у села Лаха-Варанды. Федералы уже два месяца не могли войти в Аргунское ущелье, шла позиционная война, как в Первую мировую. Но об этом я расскажу под другой фотографией. А в тот день поспели почти к обеду. Дымилась полевая кухня, а дым и туман из любого сюжета делают картинку.
{«img»: «/wp-content/uploads/2015/06/Maksimishin_08.jpg», «alt»: «Сергей Максимишин», «text»: «»}
Полдник в кадетском корпусе. Сысерть, Свердловская область. 2008 год.
Для журнала Paris Match я снимал материал о Екатеринбурге. Договорился о съёмке с кадетским корпусом, находящимся в городке Сысерть — пригороде Екатеринбурга.
Я терпеть не могу никакой нерезкости в кадре. Иногда мне кажется, что выделение главного путём увода второстепенных (как думает фотограф) деталей в расфокус — акт творческого бессилия, неспособность фотографа организовать гармоничное сосуществование деталей в кадре. Часто фотографы боятся «лишних» деталей только потому, что не умеют или ленятся заставить их работать на образ.
Когда-то у меня была выставка в Италии, на открытие приехали местные телевизионщики, и корреспондент среди прочего спросила: «А что для вас время?». Я никогда не думал над этим, но сказал, что время для фотографа — это объект консервации. Мы закатываем время в банки, так, как хозяйки закатывают помидоры. Это наша миссия. А время — оно как раз в «мусоре»: в пуговичках, в тапочках, в картинке на стене, в виде за окном.
Эта картинка — единственная в книжке, где есть нерезкость. Просто она мне очень нравится.
{«img»: «/wp-content/uploads/2015/06/Maksimishin_09.jpg», «alt»: «Сергей Максимишин», «text»: «»}
2008
Когда я был школьником, Кавказ совсем не ассоциировался с войной. Конечно, я читал Лермонтова и Толстого, но Хаджи-Мурат воспринимался персонажем мифическим. Заходи, дорогой, будем барашка резать, шашлык кушать, вино пить, в общем, «Кавказская пленница» и никакой войны. Потом заполыхало. Кавказ стал театром военных действий.
Конечно, я читал Лермонтова и Толстого, но Хаджи-Мурат воспринимался персонажем мифическим. Заходи, дорогой, будем барашка резать, шашлык кушать, вино пить, в общем, «Кавказская пленница» и никакой войны. Потом заполыхало. Кавказ стал театром военных действий.
Питерский фотограф Дима Гусарин предложил провести мастер-класс в Кабардино-Балкарии. Я подумал, что это либо шутка, либо безответственность. Но Дима, хорошо зная эти места, утверждал, что живущим в ущелье Чегем балкарцам пока удаётся держаться в стороне от войны.
Из Нальчика до Юль-Тебе (одного из двух расположенных в ущелье аулов) раз в день ходит разношенный ПАЗик. Я приехал за сутки до прибытия участников мастер-класса. Аул крохотный: 70 домов, 300 жителей. Бродил весь день — не снял ни одной картинки. Испугался, что студенты меня поколотят.
Но обошлось. Убедившись в том, что на улице фотографии не растут, народ пошёл внутрь. Вскоре начались обиды: «Почему ты у нас три раза кушала, а у соседей пять?» — укоряли нашу девочку селяне. Через неделю стало казаться, что в ущелье Чегем мы родились и выросли.
Через неделю стало казаться, что в ущелье Чегем мы родились и выросли.
Про фотографию: я попросил разрешения прийти в гости рано утром, чтобы сфотографировать, как девочек провожают в школу. Купил что-то к чаю, пришёл в семь. Позавтракав, стали ждать школьный автобус. Автобус задерживался, и возникла пауза чистого ожидания.
Женщина в чёрной косынке — мама девочек. Рядом — их тётка, сестра погибшего (зимой упал в пропасть вместе с трактором) отца. Как старшая, она взяла на себя ответственность за семью. Много и тяжело работает — покупает мелким оптом коньяк в одном месте, продаёт в розницу в другом. Хорошо понимает (она мусульманка), что торговать алкоголем — грех, но, говорит, Аллах видит, что не для наживы, а чтобы прокормиться.
Уезжали из аула со слезами. Как минимум, одна из участниц мастер-класса, Марина Маковецкая, стала настоящим фотографом. А ещё я был страшно горд, когда журнал «Русский репортёр» поместил эту фотографию на афишу своей юбилейной выставки.
{«img»: «/wp-content/uploads/2015/06/Maksimishin_10. jpg», «alt»: «Сергей Максимишин», «text»: «»}
jpg», «alt»: «Сергей Максимишин», «text»: «»}
Текст взят без сокращений из авторской книги «100 фотографий Сергея Максимишина», которую можно заказать до 31 августа.
Один из величайших российских фотожурналистов переехал в Израиль: «Я больше никогда не буду фотографировать войны» — Жизнь и культура
«Когда умирает хороший фотограф, он отправляется в Афганистан. Когда плохой фотограф умирает, он уезжает в Польшу», — шутит 57-летний Сергей Максимишин, один из лучших фотожурналистов России, дважды побеждавший на конкурсе World Press Photo и иммигрировавший в Израиль полтора месяца назад. Он выступает перед небольшой русскоязычной аудиторией, собравшейся в Бабеле, книжном магазине на улице Алленби в Тель-Авиве, который несколько лет назад стал точкой, соединяющей членов «путинской алии» и предыдущих волн иммиграции из бывшего Советского Союза с интеллектуалы из России.
В последнее время в заведении останавливались в основном люди, бежавшие из страны после ее вторжения в Украину. Максимишин — один из них.
Максимишин — один из них.
Он показывает нам подборку фотографий, которые он сделал на протяжении всей своей карьеры — начиная с Афганистана начала 2000-х (причина его неповторимой любви к этой стране — огромное количество пыли, которая там плавает, он говорит: «Пыль — друг фотографа» ) до дня из жизни студентки балета в Монголии в конце прошлого десятилетия.
«Было ясно, что мы должны уехать и что мы не готовы платить за это своими налогами и самим своим присутствием»
Он воздерживается от показа фотографий, сделанных во время Второй чеченской войны. По его словам, постфактум он понял, что они недостаточно хороши. «Я должен был сфотографировать момент до или после», — говорит он.
Максимишин с радостью рассказывает о близком контакте в Афганистане (например, однажды он и его проводник были остановлены посреди дороги бандой вооруженных людей, и оба вздохнули с облегчением, обнаружив, что они всего лишь грабители, а не Талибан) и анекдоты из Ирака, куда он был отправлен Newsweek перед войной в Ираке. («Когда мой водитель узнал, что я из России, он сразу спросил меня, знаком ли я с городом Иваново, где производят краны. Я спросил: «Почему, это хорошие краны?» Он сказал: «Я не знаю. Мы вешаем на них людей».)
(«Когда мой водитель узнал, что я из России, он сразу спросил меня, знаком ли я с городом Иваново, где производят краны. Я спросил: «Почему, это хорошие краны?» Он сказал: «Я не знаю. Мы вешаем на них людей».)
Горячий источник на Камчатке, Россия, 2006 г. Предоставлено: Сергей Максимишин
Когда мы встречаемся в квартире в Иерусалиме, которую он недавно снял вместе с женой, мой первый вопрос: нет ли у него сейчас желания путешествовать, чтобы документировать война на Украине. Его ответ сразу однозначен: «Нет. Я поклялся тогда, что никогда больше не поеду на войну. Это произошло в Беслане». Беслан знаком каждому русскоязычному как место одного из самых страшных терактов в постсоветской истории.
1 сентября 2004 года чеченские террористы ворвались в городскую школу №1 и взяли в заложники более 1000 человек – учеников, родителей и учителей. Кризис закончился через два дня штурмом здания российскими силовиками и страшной перестрелкой. Всего было убито 333 человека, более половины из них дети. «Я больше никогда не поеду на войну, и на это есть много моральных причин, — говорит Максимишин.
«Я больше никогда не поеду на войну, и на это есть много моральных причин, — говорит Максимишин.
- Этот фотограф раскрывает самые темные стороны России
- «Беженцы» на частных самолетах: российские олигархи могут изменить экономику Израиля
- Как на моих глазах разворачивалось убийство война на Украине, где, по его словам, явно есть нападающий (Россия) и защитник (Украина). «Эта война совсем другая, — говорит он. «Пока не началось, я говорил, что в мире исчезли справедливые войны. Я сказал, что когда CNN приходит, война начинается, а когда CNN уходит, война окончена. Но эта война — последняя колониалистская война. Это справедливая война. Я понимаю, что пропаганда работает с обеих сторон, но мы всегда должны помнить, кто на кого напал.
«В Беслане я чувствовал, что все это делается для того, чтобы мы приехали и сфотографировались; массовый террор начался со СМИ», — продолжает Максимишин. «До этого был индивидуальный террор.
 Когда приходят террористы, они сразу требуют оружие, наркотики и журналистов. Если нет журналистов, это бессмысленно.
Когда приходят террористы, они сразу требуют оружие, наркотики и журналистов. Если нет журналистов, это бессмысленно. Свадьба в селе Верховажье Вологодской области, 2006 г. Фото: Сергей Максимишин
Я понял, что не хочу быть частью этого неприемлемого пакета. Есть достаточно вопросов, не связанных с войной. Вот почему я организовал для себя нишу, которая находится на стыке этнографии и социальных проблем, и это то, на чем я сосредотачиваюсь. Есть люди, которые лучше меня фотографируют войну. Это не моя журналистика. Я там был, я все себе доказал. Я понял, что это может быть страшно».
Когда я спрашиваю, как он справится с тем, что Иерусалим — город, который уже обстреляли со всех сторон, Максимишин отвечает: «Во-первых, я не буду фотографировать для израильтян»
Я спрашиваю, если были и другие места, не только в Беслане, где само его присутствие чувствовало влияние на ситуацию.
«Нет, — говорит он. «Но я ясно чувствовал, что правды там нет.
 Неважно, на чьей я стороне, я всегда буду на чьей-то стороне. Та ситуация в Чечне не стоила риска. В какой-то момент я почувствовал, что не понимаю, на чьей стороне правда, и это было нехорошее чувство».
Неважно, на чьей я стороне, я всегда буду на чьей-то стороне. Та ситуация в Чечне не стоила риска. В какой-то момент я почувствовал, что не понимаю, на чьей стороне правда, и это было нехорошее чувство». Война на Украине, которая происходит в эпоху всесторонней документации, заставляет тех, кто ее отслеживает, иметь дело с потоком свидетельских показаний и видеозаписей, каждое из которых распространяется для усиления повествования одной из сторон. Утверждение о том, что «в условиях войны невозможно проверить информацию в режиме реального времени», стало стержнем всех СМИ и призвано прикрыть беспомощность журналистов, пытающихся, как правило, тщетно, балансировать между желание представить изображения читателям или зрителям и потребность в перекрестных ссылках и углубленном исследовании. Сообщение Максимишина вызывает обескураживающее сомнение: даже на земле, посреди боя, всей правды не узнаешь.
Когда я делюсь с ним эмоциями, которые я испытал, когда недавно был в Украине и не могу подобрать слова, он мне помогает: «Ощущение такое, будто тобой пытаются манипулировать».
 Он говорит, что это видно и в социальных сетях. «Моя страница в Facebook довольно популярна, и я вижу, как люди начинают меня эксплуатировать. Я не приму это. Как с украинской стороны, так и с противоположной стороны. Каждый день происходит несколько попыток протащить какое-нибудь видео или что-то в этом роде. У меня в личных сообщениях вообще нескончаемый поток. Они пытаются использовать меня как инструмент в этой борьбе».
Он говорит, что это видно и в социальных сетях. «Моя страница в Facebook довольно популярна, и я вижу, как люди начинают меня эксплуатировать. Я не приму это. Как с украинской стороны, так и с противоположной стороны. Каждый день происходит несколько попыток протащить какое-нибудь видео или что-то в этом роде. У меня в личных сообщениях вообще нескончаемый поток. Они пытаются использовать меня как инструмент в этой борьбе». Сергей Максимишин в Израиле. «Я сказал, что когда CNN приедет, война начнется, а когда CNN уйдет, война закончится». Фото: Эмиль Салман
Фотосъемка в Иерусалиме
Максимишин родился в Одесской области в семье украинки. еврей по отцу, вырос в городе Керчь на Крымском полуострове. В детстве он говорил по-украински с матерью и по-русски с отцом. В молодости уехал учиться и жить в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), до этого года жил в России. «Когда все это началось, — говорит он о войне, — было страшно. Сразу было понятно, что нам надо уезжать и что мы не готовы платить за все это ни своими налогами, ни своим присутствием в России.
 Кроме того, я писал всякие вещи в Facebook и начал получать угрозы». Маршрут был ясен: в Израиль.
Кроме того, я писал всякие вещи в Facebook и начал получать угрозы». Маршрут был ясен: в Израиль. Как и большинство недавних эмигрантов из России, Максимишин и его жена прибыли без багажа, рабочей кредитной карты, плана заработка или запаса наличных. «Мы нашли того, кто согласился конвертировать рубли в 850 евро, и это были все наши деньги». Квартиру они не снимали заранее, и не знали, где будут жить.
В аэропорту отправили в гостиницу в Иерусалиме (с тех пор МИМ отменила эту льготу для иммигрантов, прибывающих из России), и в нашей беседе неоднократно повторялась благодарность Израилю за прием и щедрость . «Нашли хороших людей, которые связались со всеми обьявлениями по аренде, поехали с нами подписывать договор, привезли всю мебель. Столько тепла и помощи», — говорит он.
В последние недели в русскоязычной общине Израиля развернулась оживленная дискуссия о недавних русских эмигрантах, которые якобы возвращаются сразу после приезда. Максимишин не отрицает, что многие из этих иммигрантов на самом деле покинут Израиль, когда получат паспорт, но он здесь, чтобы остаться — по крайней мере, если он и его партнер найдут способ зарабатывать на жизнь.

Самодеятельная труппа Наивного театра пьет чай. Психоневрологический интернат №7, Санкт-Петербург, 2003 г. Фото: Сергей Максимишин
Он планирует открыть фотошколу, продолжая тем самым работу, которую он делал в России в последние годы. Некоторые из его учеников переехали с ним в Израиль. Между тем, он надеется, что люди, с которыми он говорит по-русски, познакомятся с его работами, и надеется на выставку.
Кроме того, он планирует фотографировать Иерусалим, и много. Когда я спрашиваю, как он справится с тем, что Иерусалим — это город, который уже засняли со всех сторон, и чья экзотика уже стала клишированной, он отвечает: «Во-первых, я не буду фотографировать для израильтян. Когда я однажды делал большой проект для немецкого журнала GEO, редактор сказал мне: «Когда рухнул аквапарк [в России], нас в Германии удивил не крах, а то, что у вас был аквапарк. Что вы всегда должны учитывать, так это то, что вы не фотографируете для русских. То, что вам кажется клише, не будет таким клише для нас, немцев».
 Часто самое ценное в фотографии — это свежий взгляд на клише. А кроме того, меня ведь зовут Максимишин.
Часто самое ценное в фотографии — это свежий взгляд на клише. А кроме того, меня ведь зовут Максимишин. Его эмпирическое правило состоит в том, что лучшие фотографии получаются при повторном посещении определенного места, когда вы перестаете снимать «пух», как он это описывает (например, афганских ослов), но когда глаз не устал и никто не слишком привык к достопримечательностям.
Похищение людей в Чечне
Фотография присутствует в жизни Максимишина с относительно раннего возраста. «Мама купила мне камеру на 14-летие, и я начал снимать девочек из своего класса, — вспоминает он. «Это была совершенная гармония. Девушкам понравились фотографии, мне понравились девушки».
Когда он служил в советской армии, его отправили на полтора года на Кубу, где он был назначен базовым фотографом. «Срочно понадобился фотограф, потому что на базу должен был приехать Фидель Кастро. Он был моим первым клиентом», — говорит Максимишин. Но этот опыт закончился неудачей.

Погрузка рыбы на рыбоводном заводе на Камчатке, Россия, 2006 г. Фото: Сергей Максимишин
«Впервые получил зеркалку. Я отснял три рулона, но потом плохо их проявил, и когда приехал командир базы, он сказал: «Вы очень плохо сфотографировали, я себя только по ботинкам узнал». Максимишин был уволен с работы, но продолжал экспериментировать в свободное время, и когда в руки его командиров попала качественная фотография жабы («мне с небес был послан ангел»), он получил работу обратно.
После армии Максимишин почти полностью отказался от фотографии и начал свою профессиональную карьеру фотографа относительно поздно, в возрасте 34 лет. двое детей, с вполне приличным уровнем жизни. Но потом пошел на курсы фотожурналистики и потерял голову. Отказаться от надежного заработка ради кочевой жизни с мизерной зарплатой ему помогла резкая девальвация рубля в 1998. Бизнес, которым он руководил, развалился, и его наняли фотографом в газету «Известия». «У меня выросли крылья, — вспоминает он.
 «Это было «мое». Я стал счастливым человеком».
«Это было «мое». Я стал счастливым человеком». Переключиться с фотожурналистики на журнальную фотографию решил относительно быстро, когда был в Чечне. «Однажды нас с Юрием Козыревым, великим фотографом и моим учителем, похитили. Мы ушли оттуда с расшатанными нервами, пошли пить водку, и он спросил меня, что последнее, что я фотографировал перед Чечней, было. Я сказал ему, что снял крутую историю — женские бои в грязи. — А что ты там фотографировал? — спросил он.
«Я сказал: «Что ты имеешь в виду? Две женщины, борющиеся в грязи, и толстые парни, стоящие вокруг и наблюдающие за ними». Он спросил меня: «А что еще ты снимал?» Максимишин
«Я ответил: «Что тебе еще нужно?», а потом он спросил: «Почему ты не сфотографировал, как эта женщина утром идет за молоком внутрь с синяком под глазом? Или как она потом засыпает во время лекции?»
«Для меня это было откровением. Я понял, что интересны были не фото самой драки, а то, что приводит этих женщин к такого рода проституции.
 Вернувшись в Санкт-Петербург, я сказал своим друзьям, что не хочу больше стоять в очереди и фотографировать Путина с 50 другими фотографами; когда он двигает рукой, и все делают серию фотографий. Все смеялись надо мной. Говорили, что журналов в России нет. Но я был упрям. Я начал фотографировать истории, и журнал появился».
Вернувшись в Санкт-Петербург, я сказал своим друзьям, что не хочу больше стоять в очереди и фотографировать Путина с 50 другими фотографами; когда он двигает рукой, и все делают серию фотографий. Все смеялись надо мной. Говорили, что журналов в России нет. Но я был упрям. Я начал фотографировать истории, и журнал появился». Максимишин начал снимать для российского иллюстрированного еженедельника «Огонек», а затем и для международных журналов, включая Time, Newsweek и Stern. Среди его фотографий знаменитая фотография Путина, сопровождающая вышедшую в Newsweek в 2002 году статью «Темная сторона России», в которой читателям рассказывалось о путинском «новом авторитаризме», а также множество других фотографий, ставших символ современной России.
Владимир Путин в Санкт-Петербурге, 2001 г. Фото: Сергей Максимишин
Он говорит, что, когда он делал фотографии для статьи журнала Time в 2004 году «Из России с ненавистью» для журнала Time о неонацистах в России, он счел уместным упомянуть своих героев, прежде чем фотографировать их: «Кстати, , я еврей».
 Ответ, по его словам, удивил его: «Кто из нас не еврей?» ему сказали в примирительной манере.
Ответ, по его словам, удивил его: «Кто из нас не еврей?» ему сказали в примирительной манере. Его фотография, сделанная на границе между Северной и Южной Кореей, занявшая первое место в категории «Повседневная жизнь» конкурса World Press Photo в 2006 году. Он сделал эту фотографию для российского издания Newsweek, которое финансировало его поездку в самое секретное место. на Земле в составе делегации национал-большевиков, движения, основанного в 1990-х годов под руководством писателя и политика Эдуарда Лимонова, объединившего идеи левых и крайне правых. Присоединение к этой делегации было единственным способом попасть в Северную Корею.
Но оказавшись там, говорит он, он почувствовал себя голодным человеком, которому запрещено есть деликатесы, проходящие перед ним одно за другим. К нему были прикреплены три местных агента, и в ту минуту, когда он поднимал камеру, один из них клал руку ему на плечо и просил остановиться. На границе между враждебно настроенными соседями ему удалось сфотографировать северокорейских охранников на смотровой вышке.
 «Вышло очень геометрично, и солдаты выглядят как картонные фигурки», — с удовлетворением говорит он.
«Вышло очень геометрично, и солдаты выглядят как картонные фигурки», — с удовлетворением говорит он. 2004 Сергей Максимишин AE1 | Фото World Press Photo
Поделиться изображением
2004 Фотоконкурс «Искусство и развлечения», 1 место
Фотограф
Сергей Максимишин
Известия
Больше информации о фотоМеньше информации о фото
Подробнее о фото Меньше информации о фотографии
Истории по теме
Виталий Арутюнов
Тони Ваккаро
Бернар Аннебик
Победители фотоконкурса 2004 года
Хорст ВакербартТим Клейтон
Рауль Белинчон
Стефан Заубицер
Мэри Эллен Марк
Джейкоб Эрбан
Фелиция Уэбб
Типпи Тоул
Вальтер Шелс
Лорена Рос
Лу Гуан
Хорхе Лопес Виера
Бруно Стивенс
Цю ЯнСтэнли Грин
Александр Николсон
Эрик Рефнер
Джерри Лампен
Мойзес Саман
Стефан Заклин
Кай Виденхёфер
Дарио Митидиери
Жерар Жюльен
Джон Ловенштейн
Марк Залески
Оливье Грюневальд
Пол НикленТаня Лейк
Жан-Марк Буджу
Кэролайн Коул
Ян Граруп
Филип Бленкинсоп
Эрик Рефнер
Чарльз Омманни
Ник Данцигер
Симус Мерфи
Ян Бэннинг
Лене Эстхаве
Александр Хассенштейн
Адам НадельАль Белло
Том Риз
Тим Клейтон
Владимир Вяткин
Адам Красотка
Крейг Голдинг
Якоб Карлсен
Йонас Линдквист
Ян Сибик
Аль Белло
Александр Хассенштейн
Тим Клейтон
Адам КрасоткаКрейг Голдинг
Якоб Карлсен
Генри Агудело и Хайме Перес Муневар
Владимира Вяткина
Том Риз
Ян Сибик
Кунинори Такахаши
Ахмед Джадалла
Атта Кенаре
Тармизы Харва
Дэвид Лисон
Илкка Уймонен
Ноэль Патрик Киду
Жан-Марк Буджу
Кэролайн Коул
Программы
Благодаря нашим образовательным программам World Press Photo Foundation поощряет различные рассказы о мире, которые представляют истории с разных точек зрения.
 Максимишин фотограф: Из России — в Израиль: фотограф как рассказчик. Детали: Hовости Израиля
Максимишин фотограф: Из России — в Израиль: фотограф как рассказчик. Детали: Hовости Израиля
